Соловьёв О.Б. Понимание и культура. Новосибирск, 2005
§ 1. Античность: понимание мира, который одухотворён
Произведением замечательного искусства, которому не переставали удивляться и которое никогда не уставали созерцать в течение всей древней истории, называет А. Ф. Лосев взятый в целом античный космос. Что и как бы ни мыслили греки, - судьбу, богов, природу  или человека, - наибольшую красоту и наивысшую ценность они находили в сверхразумном космическом первоединстве.
или человека, - наибольшую красоту и наивысшую ценность они находили в сверхразумном космическом первоединстве.
"Хотя он зависел от судьбы и богов, - раскрывает сущность античного космоса А. Ф. Лосев, - но всё же он был настолько универсальным и огромным, настолько колоссальным и внушительным, что даже происходившие в нём катастрофы не нарушали его единства и не отнимали у него красоты и художественности. Кроме того, он бесконечно превосходил по своей значимости не только каждую отдельную личность, не только каждый отдельный полис и все полисы, взятые вместе, но и всю природу с её метеорологическим непостоянством и с её сменой рождений и смертей" [107, с. 503].
Приоритетом перед человеческим обладало бытие живого бога - космоса. Древнегреческие природоведы, "фюсиологи" не обсуждали проблему, что лежит в основании  как устроена природа, но задавались вопросом, каково происхождение и назначение каждого сущего в едином "хозяйстве" космоса? (см. [8, с. 122]). Важнейшей интенцией античного мышления было стремление "объять необъятное" - понять одухотворённый мир космоса в целом: "Он был материален, физичен, крепок, силён, нерушим; он был вечным источником всего существующего - источником не фиктивным или только созерцательным, а именно фактическим, практически необходимым. С другой стороны, он был всегда закономерен, всегда правилен, всегда соответствовал сам себе и всегда принуждал созерцать себя так, как будто бы только и имел целью вызвать удивление, наслаждение и уравновешенно мудрое удовлетворение. Наконец, он был творцом самого себя и не имел никакого творца ещё над собой. А это для классического грека было наиболее прекрасно, наиболее реально и справедливо. Это было для классического грека максимально морально и нравственно" [107, с. 503].
как устроена природа, но задавались вопросом, каково происхождение и назначение каждого сущего в едином "хозяйстве" космоса? (см. [8, с. 122]). Важнейшей интенцией античного мышления было стремление "объять необъятное" - понять одухотворённый мир космоса в целом: "Он был материален, физичен, крепок, силён, нерушим; он был вечным источником всего существующего - источником не фиктивным или только созерцательным, а именно фактическим, практически необходимым. С другой стороны, он был всегда закономерен, всегда правилен, всегда соответствовал сам себе и всегда принуждал созерцать себя так, как будто бы только и имел целью вызвать удивление, наслаждение и уравновешенно мудрое удовлетворение. Наконец, он был творцом самого себя и не имел никакого творца ещё над собой. А это для классического грека было наиболее прекрасно, наиболее реально и справедливо. Это было для классического грека максимально морально и нравственно" [107, с. 503].
Античный онтологизм антиперсоналистичен и без остатка разлагает человеческое существование на космически-природные составляющие. Природа человека выводится из нормативных представлений об обществе: достаточно вспомнить, чтo Аристотель говорил о рабах, с самого рождения предопределённых к подчинению, и рабовладельцах, предназначенных к господству, или рассуждение Платона о космическом и социальном соответствии совершенства души и плода, в который она попадает.
Диалектика идеи и материи, выстраиваемая античной философией, охватывала все сферы бытия, проникала во все уголки чувственно-материального космоса, сосредотачиваясь на нём то как на объекте (классический период), то как на субъекте понимания (ранний и средний эллинизм). В эпоху позднего эллинизма космос вновь предстал как мифическое отождествление субъекта и объекта понимания (неоплатонизм). Знаменитое изречение на фронтоне Дельфийского храма "Познай самого себя", ставшее со времён Сократа формулировкой рефлексивного отношения к действительности, в силу того что человеческий микрокосм заключал макрокосм вселенский, обозначало познание космической жизни, мира в целом: "Познай самого себя и ты познаешь богов и вселенную". Счастье, которое в западной культуре понимается фетишистски (под фетишем мы будем иметь в виду "предмет (или процесс), созданный человеком, но осознаваемый как самостоятельная сила, действующая на своего создателя" [81, с. 13]), таким образом, может связываться с различными "предметами". Как отмечает Ю. П. Ивонин: "Субстратом этого воплощения может быть природный материал (субъект удваивает себя в вещах), другой человек (субъект удваивает себя во власти), или собственная психика (субъект удваивает себя в знании)" [там же]. Понимание классического периода удваивало античного субъекта в окружающем его мире вещей, мире живой стихии воды, огня, земли, воздуха и эфира. Эллинизм сосредоточился на решении этических вопросов и, обособив место для личной жизни индивида в государстве и обществе, осуществил удвоение человека во власти, в том числе, и в том случае, когда философ имел смелость просить царя не заслонять ему солнца. Наконец неоплатонизм удвоил субъекта в знании - тончайшей диалектической проработке мифа.
Направленность развития западного мироощущения задаётся всё более адекватным освоением его центрального компонента - представления о власти. Между тем античное миропонимание и мироощущение не было исключительно "западным". Платон, рассматриваемый как "пункт пересечения двух различных миров", наряду со многими мудрецами древности, испытывал воздействие восточного мышления: "Платон, принадлежавший Востоку, видит цель мудреца в созерцании Единого, в безмолвном экстазе, осуществляемом "по ту сторону" сознания, с его расщеплённостью на субъект и объект и вербальной организацией. Платон-европеец, напротив заставляет мудреца вернуться в "пещеру", чтобы заняться скучной работой управления государством. Причём именно в государственном единстве, а не в индивидуальном катарсисе целостной души, видит Платон символизацию космического Единого" [81, с. 15]. В ходе истории раздвоенность античного мышления между "восточным" и "западным" полюсами будет преодолеваться, и в Новое время воплощение абсолютной гуманистической ценности - царь природы, "образ и подобие Божье", родовое человеческое существо - уже совершенно "по западному" будет противопоставлено носителю отрицательной ценности - природе, потенциальному ограничителю человеческой свободы.
Цель рассуждения, сформулированная Аристотелем в первой главе "Метафизики", состоит в том, чтобы "показать…, что так называемая мудрость, по общему мнению, занимается первыми причинами и началами" [6, с. 67]. А это, в свою очередь, предполагало, что "к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-нибудь пользы" [6, с. 69]. Для античного человека философия была путём уподобления бессмертным богам, "поэтому и тот, кто любит мифы, - отмечает Аристотель, - есть в некотором смысле философ, ибо миф создаётся на основе удивительного" [там же]. Знание сущего и причины открывало понимание законов становления явлений, что, по словам А. Ф. Лосева, стало окончательным прощанием с дорефлексивным мифологическим сознанием и переходом к "доподлинному рационализму", к "восторгу теоретического мышления".
Для Сократа ("жуткого человека, самой волнующей, самой беспокойной проблемы из всей истории античной философии", А. Ф. Лосев) понимание становится первостепенно значимым: благо не мыслилось им вне "понимания и разумения" высших ценностей. Только разумный человек умеет жить приятно, только будучи осмысленными, понятыми, вещи приносят удовольствие и наслаждение. (Примечательно, что, благодаря Ж. Лакану, отождествившему бессознательное со структурой языка, современный психоанализ утвердился во мнении, что центр наслаждения у человека располагается не в физиологическом, а в символическом поле). Этический идеализм Сократа, как известно, и состоял в том его положении, что человек, постигший идею блага, центрального принципа мира идей, не может поступать дурно.
Понимание в античности - разум, разумение, по Платону, - является необходимым условием нравственности. "Во всех фазах своего развития, - отмечал Г. Гомперц, - Платон считал бы незыблемой аксиомой не только положение "Без разума нет нравственности", но и дальнейшее положение "Только благодаря разуму возможна нравственность"" (цит. по [77, с. 148]). Платон пишет:
"Перед нами, точно перед виночерпиями, текут две струи; одну из них - струю удовольствия - можно сравнить с мёдом, другая - струя разумения - отрезвляющая и без примеси вина, походит на суровую и здоровую воду. Вот их-то и нужно постараться смешать как можно лучше" [147, III (1), с. 79];
"Существует лишь одна правильная монета - разум, и лишь в обмен на неё должно всё отдавать" [147, II, с. 28].
Несмотря на пессимизм, характерный для греческого мироощущения, человек тем не менее делается разумным, если основывает своё мнение на рациональном, критическом анализе, ведущую роль в котором играет рефлексия. Понимание с необходимостью превращается в рефлексивное понимание - умозрение, рассудочность которого следует беречь пуще тысячи "телесных очей": "в науках, - рассуждает Платон, - очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, - ведь только при его помощи можно увидеть истину". Уже Гераклит осознаёт кардинальную ценность рефлексивной позиции: "Многознание уму не научает"; "Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы понимать, что Мудрое ото всех обособлено" [183, с. 239]. Его современник Парменид повторяет:
| "Фр. 4 |
Виждь, однако, умом: от-сущее верно при-суще,
Ибо не отрубить от сущего сущее в смычке,
Ни распыляя его повсюду всяко по миру,
Ни собирая в одно…" [183, с. 297]
|
Ради умозрения боговдохновенный Демокрит, по преданию, вырывает себе глаза ("Слово - тень дела"), а Гераклит отказывается быть царём в родном городе. Этические учения, основанные на рефлексивном понимании космоса, приобретали для греков значимость только в том случае, если их создатели на деле - поступками, поведением, всей своей жизнью - являли образец следования своим идеям: таковы Сократ, Сенека, Диоген Синопский, Эпикур, Эпиктет и многие другие греческие и римские поклонники мудрости.
Интеллектуально зримыми вещи становятся благодаря идеям, которые пребывают в "природе" как бы в виде образцов и выполняют функцию парадигматических причин всех явлений (см. [134, с. 51-57]). Демокрит, по словам Э. Кассирера, придумывает понятие атома для того, "чтобы обрести строго единое и рациональное понимание действительности и тем самым освободиться от противоречий, в которые нас повсюду запутывает наивное чувственное созерцание" (цит. по [52, с. 188]). Искусство проникновения в сущность вещей, умозрения истины, которое высвобождало из "варварской грязи зарывшийся туда взор нашей души" [147, III (1), с. 544], позволяло иметь дело не с преходящим и изменчивым, но с "божественным и постоянным", "видеть всё сразу". Это царское, по выражению Платона, искусство, подлинный "венец наук", известное под именем диалектики, представляет собой один из базовых в человеческом мышлении способов понимания.
Тем не менее понимание мира античными мыслителями носило во многом мифологический, а не сугубо теоретический характер: их мир был населён одухотворёнными существами - богами, ангелами, демонами, "умами" разной степени чистоты. Именно такое определение понимания М. К. Мамардашвили сформулировал при ответе на вопрос "что такое понимание?": "Понимание есть в принципе нахождение меры между мной и тем, что я понимаю, - соизмеримость" [119, с. 15]. Подобную соизмеримость, греческое классическое понимание красоты А. Ф. Лосев видит в стихотворении Ф. И. Тютчева "Гроза":
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
|
Как в "Первой Пифийской оде" Пиндара, златая лира изливает на главу Зевесова орла тучу тёмную и замыкает его взор сладким ключом, так и ветреная супруга Геракла, выполняя роль виночерпия, проливает чашу с игристым напитком вечной жизни. Ф. И. Тютчев по-античному мифологически описывает майскую грозу. "Поэт говорит здесь о катастрофе в природе, - поясняет философ, - но эта катастрофа для него и забавна, и приятна, и прекрасна. Кроме того, она и вполне чувственна, вполне безболезненна и регулируется высшими силами, вечными, всемогущими и безответственными" [107, с. 505].
Другой пример, метемпсихоз древнегреческого языка и мироощущения, мы находим в творчестве Н. С. Гумилёва. Его мир - это произведение античной красоты, в котором неразличимы искусство и ремесло, а конструктивные теоретические понятия превращены в декоративные формы восприятия действительности. "Пролетела стрела // Голубого Эрота, - доверяет он свою тревогу нам, небезучастным свидетелям космического круговращения, - И любовь умерла, // И настала дремота". Золотым наследством он получил из самого детства человечества белые тропинки и лёгкий шорох шагов, таких же живых, как майские жуки, и радостно предаётся созерцанию этой замкнутой в себе жизни:
Снова лес и поля
Мне открылись, как в детстве,
И запутался я
В этом милом наследстве.
|
Античный мир одухотворён и исполнен смыслом. "Бытие есть, а небытия нет", - утверждал элеат Парменид, подобно Гесиоду, излагавший философию в стихах:
| "Фр. 3
|
Ибо мыслить - то же, что быть…";
|
| "Фр. 8
|
То же самое - мысль и то, о чём мысль возникает,
Ибо без бытия, о котором её изрекают,
Мысли тебе не найти. Ибо нет и не будет другого
Сверх бытия ничего: Судьба его приковала
Быть целокупным, недвижным. Поэтому именем будет
Всё, что приняли люди, за истину то полагая:
"Быть и не быть", "рождаться на свет и гибнуть бесследно",
"Перемещаться" и "цвет изменять ослепительно яркий"".
[183, с. 295-297]
|
Имена, знаки, по Пармениду, вводят во всяческие заблуждения и допускают, к примеру, в атомистической теории Демокрита, существование пустоты ("не-сущего сущего"), что является результатом мнения  "тропы совершенно безвестной", а не истины
"тропы совершенно безвестной", а не истины  "пути Убежденья".
"пути Убежденья".
| "Фр. 2
|
Ныне скажу я, а ты восприми моё слово, услышав,
Что за пути изысканья единственно мыслить возможно.
Первый гласит, что "есть" и "не быть никак невозможно":
Это - путь Убежденья (которое Истине спутник).
Путь второй - что "не есть" и "не быть должно неизбежно":
Эта тропа, говорю я тебе, совершенно безвестна,
Ибо то, чего нет, нельзя ни познать (не удастся),
Ни изъяснить…"
[183, с. 295]
|
Примером пустоты, небытия, в которое проваливается хрупкий человеческий разум, пытающийся логически осмыслить, что такое беспредельность, может служить античное представление о бесконечно малых величинах - бесконечная регрессия в апориях усыновлённого Парменидом Зенона. "Вся греческая философия, - полагает Х. Ортега-и-Гассет, - начиная с софистов и Сократа и кончая последним в этой череде Плотином, движется в пространстве, заполненном… кроссвордами. В этом смысле даже Парменид и Гераклит, несмотря на всю свою суровость, являются "гомеридами", людьми, способными умереть из-за нерешённой шарады. Зенон был Капабланкой, только с чувством юмора, которому последнему не хватало. В отличие от игравшего в шахматы Капабланки он играл в философию в гораздо более сильном смысле слова "играть"" [137, с. 327-328]. В благороднейшем, по выражению Диогена Лаэртского, Зеноне Аристотель видел изобретателя диалектики и разделял его убеждение в том, что математические понятия, будучи абстрактными, настолько односторонни, что никогда не станут существенными для понимания космоса.
В то же время именно Аристотель выразил протест против имеющейся у Платона тенденции отделять неподвижный мир смысла от становления физического мира. Становление обусловливает многозначность одной и той же вещи, многомерность её смысловых проявлений. Разница между пониманием того, что мы наблюдаем в физическом мире как вещь, процесс, пред-мет в становлении и эйдосом, управляющим вещью и слиянным с ней, но не причастным её становлению и порождению, фиксируется в слове. Понятый эйдос вещи есть её чтойность, "смысл определения", а имя - нечто выделяющее единичный смысл из общей стихии осмысленности. Читаем у А. Ф. Лосева:
"Слово - там, где единичность имеет несколько разных смыслов, так что данное слово даёт один из этих смыслов. Мы бы сказали, что слово есть понятый смысл, сознанная сущность. Отсюда точное определение чтойности, по Аристотелю, было бы то, что она есть 1) понятая, то есть зафиксированная в слове 2) неделимая единичность 3) смысла вещи" [106, с. 129]. Чтойность вещи есть не что иное, как её эйдос - "сущность без материи", по словам Аристотеля.
Именование вещи  каким-либо словом есть энергийный росчерк понимания её чтойности. В чистом именовании, в отличие от высказывания, именующий отступает перед сущим
каким-либо словом есть энергийный росчерк понимания её чтойности. В чистом именовании, в отличие от высказывания, именующий отступает перед сущим  на задний план: "чтойность вещи тождественна вещи, если под вещью понимать чисто фактическую субстанцию, факт, то есть если чтойность вещи сама по себе не имеет иного факта, кроме факта самой вещи, и что она есть сфера чистого смысла, где основание и причина - одно и то же. Но чтойность вещи различна с вещью, если под вещью понимать её смысл как вещи, её смысл как факта, то есть если чтойность вещи имеет особый смысл, чем сама вещь. Чтойность вещи и вещь тождественны по своему факту и различны по смыслу" [106, с. 132]. Эту диалектику А. Ф. Лосев поясняет следующим образом:
на задний план: "чтойность вещи тождественна вещи, если под вещью понимать чисто фактическую субстанцию, факт, то есть если чтойность вещи сама по себе не имеет иного факта, кроме факта самой вещи, и что она есть сфера чистого смысла, где основание и причина - одно и то же. Но чтойность вещи различна с вещью, если под вещью понимать её смысл как вещи, её смысл как факта, то есть если чтойность вещи имеет особый смысл, чем сама вещь. Чтойность вещи и вещь тождественны по своему факту и различны по смыслу" [106, с. 132]. Эту диалектику А. Ф. Лосев поясняет следующим образом:
"…Анализируя отношение чтойности к сущности (oysia), мы приходим к необходимости различения в сущности сферы её чистого смысла и сферы её чистой фактичности и вещности, то есть различения смысла и факта. Смысл и факт отличны друг от друга, так как факт имеет смысл и смысл осуществляется (а иначе всякий смысл уже был бы вещью и всякая вещь уже была бы понятием); смысл и факт, далее, тождественны друг другу, так как перед нами нумерически одно - осмысленный факт, который как таковой самотождествен. Отличие смысла от факта происходит на почве акцидентального определения смысла, то есть фактические, вещные качества смысла суть его акциденции, так что смысл акциденций есть смысл иной, чем первоначальный смысл; это смысл, соотнесённый с инобытием смысла, и потому можно сказать, что смысл и факт (то есть смысл просто и инобытийно выраженный смысл) по смыслу своему различны. С другой же стороны, отождествление смысла и факта происходит на почве существенного определения факта, то есть смысл факта есть именно то самое существенное в факте, без чего он не может существовать как таковой, так что смысл вещных акциденций есть тот же самый смысл, что и первоначальный смысл, взятый без соответствующей вещи и акциденций и без своего вещного осуществления, и потому можно сказать, что смысл и факт (то есть смысл просто и инобытийно выраженный смысл) по смыслу своему тождественны. Чтойность - чистый смысл инобытийно выраженного чистого смысла" [106, с. 134].
Понимание чтойности вещи для греков это космический феномен, в котором вещь является сама собой, или, как говорил М. Хайдеггер, кажет себя сама собой: "Для греков… опыт сущего настолько богат, он так конкретен и касается греческого человека так сильно, что имеет обозначающие его синонимы (Аристотель, Метафизика I):  Поэтому ни к чему не ведёт переводить
Поэтому ни к чему не ведёт переводить  буквально через сущее. Так мы не откроем никакого понимания тому, что есть для греков сущее. А именно оно есть собственно:
буквально через сущее. Так мы не откроем никакого понимания тому, что есть для греков сущее. А именно оно есть собственно:  открывшееся в непотаённости, то, чему на некоторое время потаённость отказывает в себе; это та
открывшееся в непотаённости, то, чему на некоторое время потаённость отказывает в себе; это та  то, что кажет себя само собой" [194, с. 124]. Аристотелю ясно, что бытие для отдельной вещи и сама отдельная вещь тождественны и составляют одно.
то, что кажет себя само собой" [194, с. 124]. Аристотелю ясно, что бытие для отдельной вещи и сама отдельная вещь тождественны и составляют одно.
Обратим внимание на то, что конкретный опыт касается греческого человека, а совсем не так, будто бы греческий человек, как самостоятельный субъект, производит его. Что же такое феномен в греческом смысле слова? Приведём рассуждение М. Хайдеггера:
"Если следовать новоевропейскому способу выражения, то феномен греков будет как раз тем, что в Новое время феноменом стать не может; это сама вещь, вещь в себе. Между Аристотелем и Кантом пролегает пропасть. Здесь надо остерегаться всякого ретроспективного толкования. Таким образом, мы должны поставить перед собой решающий вопрос: чем синонимичны для греков 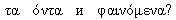 В чём присутствующее и то, что высказывает себя само собой (являющееся), полностью одно? Такое единство для Канта совершенно невозможно.
В чём присутствующее и то, что высказывает себя само собой (являющееся), полностью одно? Такое единство для Канта совершенно невозможно.
Для греков вещи являются.
Для Канта вещи являются мне.
За время между ними дело дошло до того, что сущее стало предметом (objectum или лучше: res obstans). Выражение предмет не имеет в греческом никакого соответствия" [там же].
Это важно, поскольку понимание в данной работе описывается нами именно как феномен, а не как субъективная человеческая способность. Или, скажем иначе, понимание есть то, что кажет себя само собой, не оставляя "про запас", в потенции, никакой потаённой сущности: оно либо присутствует здесь и сейчас целиком и полностью, либо его нет и быть не может. Синонимичность понимания и феноменальности смысла обусловливается нами социокультурной природой сознания, как в индивидуальной, так и в надындивидуальной его формах. Синонимичность 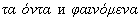 для греков была задана алетейей: "Греки это те люди, которые жили непосредственно в открытости феноменов, - через особенную экстатическую способность слышать, что говорят им феномены (новоевропейский человек, декартовский человек, se solum alloquendo, заговаривает только с самим собой)" [194, с. 125]. Греческий опыт сущего предполагает аристотелевский ответ на вопрос "Что есть сущее как сущее?", и звучит он как энергия
для греков была задана алетейей: "Греки это те люди, которые жили непосредственно в открытости феноменов, - через особенную экстатическую способность слышать, что говорят им феномены (новоевропейский человек, декартовский человек, se solum alloquendo, заговаривает только с самим собой)" [194, с. 125]. Греческий опыт сущего предполагает аристотелевский ответ на вопрос "Что есть сущее как сущее?", и звучит он как энергия  отнюдь не потенция, хотя потенция и относится к энергии, как общее к индивидуальной этости (см. [106, с. 114-122]; [194, с. 123]). Общее есть принцип энергийного выражения сущности. Заметим, что, по мнению М. Хайдеггера, никто уже больше никогда не достигал высоты греческого опыта сущего как феномена.
отнюдь не потенция, хотя потенция и относится к энергии, как общее к индивидуальной этости (см. [106, с. 114-122]; [194, с. 123]). Общее есть принцип энергийного выражения сущности. Заметим, что, по мнению М. Хайдеггера, никто уже больше никогда не достигал высоты греческого опыта сущего как феномена.
В сфере выраженного, или объективированного, смысла, если следовать "новоевропейскому способу выражения", энергия есть не что иное, как метод и принцип самой объективации. Потенция есть то, как объективирован смысл. Энергия и потенция, замечает А. Ф. Лосев, "и есть то самое, что превращает отвлечённый смысл в выраженный смысл, смысл как задание и метод, как закон, - в смысл как выполненное задание, как проведённый метод, как исполненная закономерность. И если это так, то необходимо признать, что общее есть принцип выражения смысла, который от этого выражения становится индивидуальным" [106, с. 118]. Именно эту энергийную явленность смысла - индивидуальную этость понимания, его интенциональность - мы и будем прежде всего иметь в виду при описании традиций понимания мыследеятельности, как прошлых исторических эпох, так и современности, чей герменевтический опыт представляется нам усиленным социальной памятью.